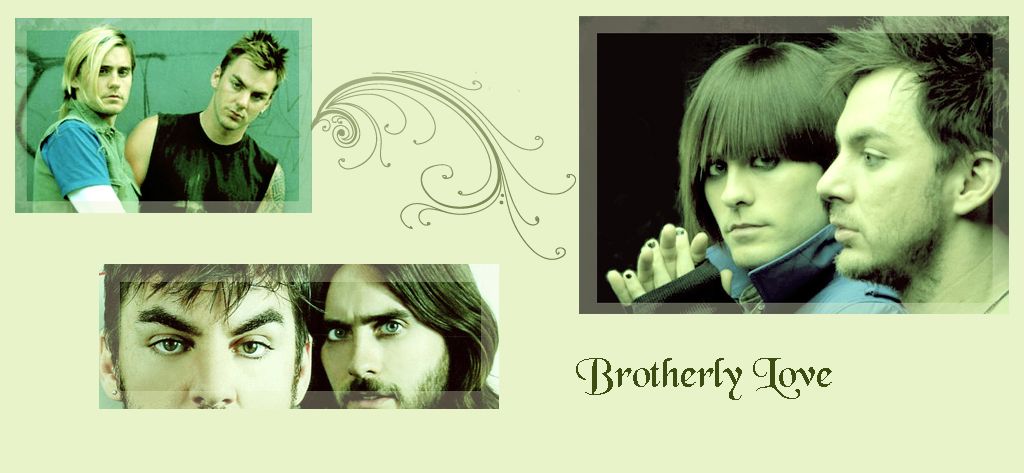Название: Помнишь?
Автор: Audrey Frea
Пейринг: Шеннон/Джаред.
Рейтинг: R
От автора: Меня заинтересовал один период в жизни братиков. В каком-то
инью (чуть его разыскала, блин!) Джа сказал, что он учился в Филадельфии, потом
в Нью-Йорке, а потом все бросил и переехал к Шенну, который в тот момент жил в
Индиане - затем они некоторое время жили там, до Лос-Анжелеса. Было это в 1992
году. Сю, спасибо за информацию! Поэтому в фике два
периода: настоящее время (вот прямо сейчас, буквально на днях) и ретроспекция -
тот самый 1992 год.
1.
— Ну… так почему ты не остался в университете тогда? — мягкий, но настойчивый
голос Мэтта выводит меня из задумчивости, и я судорожно вздыхаю, понимая, что
пять минут просидел, даже не шевелясь…
Я не выношу ссор с братом. Я лучше раз двести разобью себе морду о землю, чем
один раз всерьез с ним поругаюсь. Мы, конечно, можем спорить из-за всякой
ерунды, почти смеясь, и все такое… но когда он по-настоящему на меня злится…
Сегодня как раз такой день — и я его автоматически вписываю в свой «черный
календарь», заполненный крестиками, которые означают одно: мне было
действительно плохо, безо всякой там игры и притворства. Разозлить Шенна не
так-то просто, но я знаю три вернейших способа: подвергнуть свою жизнь
опасности, не слушать его предостережений и просьб не рисковать собой, и делать
это безо всякой на то надобности. Сегодня все три причины совпали, так что…
Я упал. Да, да, я идиот… ДА! Довольны? Я видел, что толпа передо мной
жидковата, что половина людей — малолетки, я прекрасно помнил, что во время The
Kill, когда я вскочил на его барабаны, Шенн показал палочками на толпу, а потом
скрестил их на мгновение, что означало только одно: «Никаких прыжков!»… И все
равно я прыгнул. Почему? Знаете главное правило удачного рок-концерта с
настоящим драйвом? «Выруби мозги!» Вот и объяснение. Но оно не подходит для
Шенна… Я влез на перекошенное ограждение, отпихнул руки охранника, который тут
же выругался мне в спину (список тех «комплементов», которые они говорят мне во
время моих вылазок, может составить хорошее собрание сочинений, так что я давно
не обращаю на это внимание), и прыгнул, едва успев прокричать слова из
«Buddha…» Я зацепился за ограждение, потом столкнулся с какой-то оторопевшей
девчонкой, тощий парень сделал слабую попытку поддержать меня… и, конечно, я
упал. Нет, мне не было страшно или больно. Адреналин. Я вскочил, порадовавшись,
что с девчонкой вроде все ОК, и, поднимаясь на сцену, старался не думать о том,
насколько жалко выглядит рокер, лежащий на земле в толпе «фанатов». Блядь.
Бросил взгляд исподлобья на Мэтта, без слов спрашивая: не слишком ли все ужасно
выглядело? Он успокаивающе кивнул и продолжил играть. На Шенна я старался даже
не смотреть. И правильно — даже через песню он был еще бледным. От ярости. Я-то
знаю.
Когда мы закончили, он ничего мне не сказал — и я вздохнул облегченно: это
означало, что я отделаюсь поганым вечером, в течение которого он будет общаться
с кем угодно, только не со мной. Но, видимо, судьба не собиралась быть ко мне
настолько благосклонной. Мы мирно вернулись в автобус, чтобы переодеться, я
стащил с себя жилет, рубашку и…
— Fuck! — Что-то в голосе Томо меня насторожило. Он смотрел на меня круглыми
глазами… вернее, куда-то в область моего живота. Я машинально провел ладонью по
ребрам и тупо уставился на руку, покрытую темными разводами подсохшей крови.
Моей. И тут же в памяти всплыло, как я цепляюсь ногой за ограждение, пытаюсь
ухватиться за край и проскальзываю всем телом по «зубцам» сверху. Тогда я
ничего не почувствовал, конечно… а рубашка черная… Я понесся к зеркалу, но оно
висит высоко, и мне пришлось залезть с ногами на диван, чтобы увидеть две
неглубокие, но рваные и длинные царапины поперек ребер, четко выделяющиеся
черными дорожками засохшей крови на белой коже. Вот хрень!
Первое, что я увидел, спрыгивая с дивана, — глаза Шенна. The End.
В нем боролись два желания: обнять меня и ударить — я это видел так явственно,
как будто два волка внутри моего брата — белый и черный — сцепились прямо
передо мной и грызли глотки друг другу в кровь… Думаете, я просто так называю
его animal’ом? Вопрос риторический, кстати.
Он нервно запустил руку в волосы, взъерошил их, не сводя с меня глаз, а я
просто не дышал. Я бы хотел что-нибудь сказать, но — нечего. Вот в такие минуты
мне всегда хочется, чтобы он просто врезал мне — и дело с концом… честное
слово, я бы даже не обиделся… Но он этого никогда не делает. Шенн просто
медленно развернулся и вышел из автобуса.
Раздача автографов прошла, как обычно: какие-то дурочки завизжали, когда я
показался на горизонте, заорали обычную чушь, группка Эшелона шарахнулась от
них подальше, чтобы мы не подумали, что они — вместе… как будто можно спутать
наших фанатов с этими идиотками! Я механически ставил свою закорючку, которую,
наверное, и во сне смогу вывести на чем угодно… обложки дисков, майки, чьи-то
руки, плечи, животы, джинсы, афиши, билеты, пачки из-под сигарет, фотографии,
купюры, обрывки записок… «Привет, Джаред!», «Спасибо, Джаред!», «It was
amazing, Jared!», «Ты такой hot и cute, Джаред!»… И мое: «Спасибо… спасибо…
спасибо…» Потом фотосессия. Объятья, поцелуи, чьи-то горячие щеки, губы на моей
скуле, глаза с расширенными зрачками, рука на моей заднице… (мужская?!)…
внушительная грудь, прижимающаяся к моему животу — как раз к царапинам… черт,
больно… Запах алкоголя, сигарет, пота, духов, мыла, лосьонов для бритья,
чипсов, еды… Кто-то еще удивляется тому, что я не ем фаст-фуда? «Улыбнись,
Джаред!», «Обними меня, Джаред!», «Джаред, не мог бы ты сделать такое лицо?..»
К концу всего этого я был измотан — настолько, что, если бы попросили, я бы
стащил с себя штаны и позволил бы моей заднице позировать для фанатов. Плевать.
Все как всегда… Хотя нет, не «как всегда». Обычно я знаю, что вот-вот (ну, еще
чуть-чуть!) я влечу в автобус, плюхнусь на диван рядом с Шенном, прощемившись
между ним и недовольным Томо, и буду, согреваясь возле горячего тела моего
брата, смеяться вместе с парнями над всякой фигней, которая вечно случается на
концертах. А сегодня… я видел людей, словно в тумане — если бы мне под руку
подставили забор, я бы и его, наверное, обнял для хорошего кадра. Я просто НЕ
мог НЕ смотреть на Шенна. Мой взгляд выхватывал его бейсболку защитного цвета в
толпе людей — и я на мгновение успокаивался. Если я ее не видел, сердце куда-то
проваливалось. Я уже говорил, что не выношу ссор с Шенном?.. «Бля, Господи, —
думал я. — Если сегодня мы с ним помиримся — клянусь: я больше ни-ког-да не
выкину ничего подобного!.. Во всяком случае, в этом туре… Во всяком случае, в
ближайшие две недели… Ну, неделю уж точно!» Я даже верил в это, правда.
В автобус я вернулся первым — и быстренько проскользнул в наш «якобы душ». Вода
потревожила рану, противно защипало, я вяло подумал о том, что стоило бы
обработать царапины антисептиком. Потом… наверное. Когда я вышел, вернулся еще
только Мэтт — зря я задерживал дыхание, толкая дверь из душа и боясь наткнуться
на разъяренного Шенна! Измордованный концертом и фанатами Мэтти полулежал на
диване, держа у уха мобильник и, судя по выражению лица, слушал Либби, изредка
вставляя одно-два слова — если междометия можно назвать словами. Его усталость
можно диагностировать по его речи: после выступления из него обычно не выудишь
ни слова — и он всегда искренне удивлялся, как я могу не затыкаться целыми
сутками. Естественно, Либби отлично знает это и, вместо идиотских абстрактных
вопросов, на которые нужно заливаться соловьем, вроде: «Дорогой, как прошел
концерт?» всегда спрашивает конкретно: «Ничего плохого не произошло?» — так,
чтобы бедняга Мэтт мог отделаться кратким: «Все ОК». Я приземлил свою пятую
точку напротив Мэтти и даже успел задуматься о чашке горячего шоколада…
Вы знаете, насколько проблематично с грохотом хлопнуть автобусной дверцей,
которой управляет магнитная пружина? Для моего брата — не проблема…
Шенн влетел в автобус, как шаровая молния, и сразу же двинул в мою сторону —
челюсть сжата, сузившиеся глаза сверкают из-под надвинутой на лицо бейсболки,
плечи напряжены… Я по глупости вскочил с дивана — и тут же мягкий, но
внушительный толчок Шенна вернул меня на место. Он никогда не ударит меня
по-настоящему, но если мой брат хочет оставаться НАДО мной, он найдет способ
подмять меня под себя. И, поверьте, эротично это звучит только для вас, но не
для меня.
— Какого хрена ты Это делаешь?
Если вас когда-нибудь интересовал вопрос, когда же я все-таки затыкаюсь, то вот
вам ответ: в такие моменты. Слова разбегаются от меня, как от прокаженного, а
мозги становятся похожими на слепого и безногого дауна, который в лесу пытается
найти дерево. Я беспомощен перед Шенном, потому что мой дар убеждения — это
единственное мое оружие: несмотря на то, что я на добрых два дюйма выше брата,
все равно всегда чувствую себя рядом с ним, как болонка рядом с бульдогом.
— Шенн… я… ты…
Убедительно, ничего не скажешь. Мэтт, замеревший было со своим телефоном у уха,
ожил и тихо пробормотал в трубку:
— Нет, ничего не случилось… Шенн… Джаред…
Я так и представил, как Либби спрашивает: «Кто это там пытается тебя убить, или
фанатки выламывают дверь автобуса?» — И совершенно некстати нервно захихикал.
Идиот. Естественно, это еще больше разозлило Шенна. Он метнул на Мэтта
убийственный взгляд и вернулся к моей скромной персоне.
— Какого. Хрена. Ты. Это. Делаешь.
— Шенн, ты же сам понимаешь… это наш стиль… Я не могу по-другому!
— «Наш стиль», говоришь? Наш стиль — это об ограждения животы себе
вспарывать?..
— Бля, а что ты хочешь, Шенн — чтобы я целый вечер простоял на одном месте?!
Кому нафиг нужен такой концерт? Я что, сраный Синатра?!
Шенн сдернул с головы свою бейсболку таким жестом, что я уже готов был увидеть,
как она самоликвидируется, не дожидаясь, пока хозяин растерзает ее в клочки.
— Ты! Fuck! — представляю, какие слова Шенн «проглотил»! — Ты прекрасно знаешь,
чего я от тебя хочу!.. Я хочу от тебя совсем немного — только чтобы ты не вел
себя, как самоубийца, во время концерта, понятно?!
Он меня загнал в угол: конечно, брат требует от меня немного, а дает более чем…
Я сволочь и придурок. Расклад ясен. Но кто ж в споре в этом признается?
— Послушай, Шенн, в конце концов, это ведь МОЯ жизнь?.. Я сам буду решать, что
мне с ней делать, ясно?..
Вы уже догадались, почему у меня атрофируется словарный запас в такие моменты?
Защитная реакция. Чтобы за эти самые слова меня кто-нибудь не зашиб. Не успел я
сказать то, что сказал, — и уже готов был проглотить свои слова, даже если бы
мне пришлось подавиться ими и сдохнуть. Бля-я-я-я…
Я смотрел в глаза Шенна, на то, как неестественно расширились его зрачки,
прямо-таки затопили всю радужку, как побледнело его лицо — и чувствовал, как у
меня в животе начинает что-то омерзительно дрожать.
Я снова попытался встать, видя, что Шенн застыл в шоке, — хотел что-то сделать,
обнять его… хотя бы прикоснуться… Но снова оказался на диване — и на этот раз
рука Шенна вжимала мое плечо в мягкую спинку, комкая в кулаке мою майку. Брат
наклонился к самому моему лицу; глаза его стали экстремально темными, а голос —
экстремально низким. Дрожь в моем животе медленно, но верно, продвигалась
вверх, к горлу.
— Знаешь, что я тебе скажу? Ты — долбаный эгоист, и тебе насрать на людей,
которые тебя любят… И знаешь, что еще? Я ЖАЛЕЮ, ЧТО ТЫ НЕ ОСТАЛСЯ ТОГДА В СВОЕМ
ГРЕБАНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. Я ЖАЛЕЮ, ЧТО ПОЗВОЛИЛ ТЕБЕ ПРИЕХАТЬ КО МНЕ.
Спокойно и размеренно. Блядь, Шенн, размозжи мне голову…
Мой брат закрыл глаза, опустил голову, развернулся и бросился к выходу. Почти
столкнулся с неуклюже входящим Томо, задел его плечом и с треском врезался в
дверь, которая в третий раз за вечер жалобно застонала. Томо растерянно сделал
несколько шагов к выходу, осуждающе оглянулся на меня (естественно, кто еще
может быть виноват?) и выбежал вслед за Шенном. Перед тем, как несчастная дверь
окончательно закрылась за ним, я услышал, как Томо зовет моего брата:
— Шенн! Подожди… Шенн, ну же…
Знаете выражение: горло перегрызет за хозяина? Это про Томо и моего брата. Я не
ревную, это даже хорошо, что есть человек, настолько преданный Шенну… это
прекрасно… когда горло не мое.
Я подтянул колени к груди и уткнулся в них лицом. Как в детстве. Черт.
— Ну… так почему ты не остался в университете тогда? — спрашивает меня Мэтт,
усаживаясь рядом. Спустя мгновение я осознаю, что он мягко гладит меня по
плечу, обнимает, и расслабляюсь в его объятиях. Я никому никогда не рассказывал
этого — официальная версия такова, что мне надоело учиться. И никто обычно не
задавался вопросом: с чего это я уехал из Нью-Йорка с его Бродвеем и с дикой
тучей возможностей для начинающего актера, желающего именно «играть», а не
сверкать мордашкой в эпизодах сериалов, в какой-то затхлый Индианаполис? Даже
внимательному Мэтти это не приходило в голову, пока Шенн не сказал… ЭТО. Черт.
Я на минуту закрываю глаза и грустно усмехаюсь сам себе: все просто. В
Индианаполисе был Шенн. В Нью-Йорке Шенна не было. Точка.
***
Когда я пятнадцать лет назад ехал в автобусе, на лобовом стекле которого
подрагивала табличка Philadelphia, в моей голове постоянно крутилась одна фраза
Шенна, за которую я цеплялся, как утопающий за соломинку, — и я почти верил в
сказанное им за месяц до моего отъезда. До сих пор помню дословно: «Пора
заканчивать наши детские игры, Джей. Я начну свою жизнь, ты — свою. Скоро у
тебя появятся новые друзья, увлечения, ты все забудешь. У нас все будет хорошо…
И ты всегда можешь на меня рассчитывать!» Я тогда был до того наивен, что
действительно верил: я уеду учиться в Филадельфию, начну новую
охренительно-невероятно-интересную-жизнь, а с Шенном мы будем встречаться на
каникулах и по праздникам — будем заговорщически подмигивать друг другу с
разных концов стола в честь дня Благодарения, и потом, за кофе, смеяться,
вспоминая свои «детские игры»… Кретин! В общем, на то были свои причины: Шенн
переехал в Индианаполис на год раньше, сразу после окончания школы. Он часто
приезжал — как я тогда думал, чтобы повидаться с матерью (намного позже до меня
дошло, что он преодолевал сотни миль на своем раздолбанном древнем «бьюике»
только ради… меня) — и с каждым разом все настойчивее пытался донести до моих
мозгов одну простую мысль: скоро, как только я закончу школу, мы прекратим…
«эти отношения». Да-да, тогда мы пользовались вот такими дурацкими
иносказаниями — и ни за что бы не произнесли вслух слово «любовь», говоря о
том, что между нами происходило. Строго говоря, мы не считали все это любовью…
Классный секс с человеком, которому ты доверяешь, который тебя не предаст,
никому не расскажет — и ходить далеко не нужно! Маленькая тайная игра,
начавшаяся одной дождливой весенней ночью, в восемнадцатый день рождения моего
брата, и только. Подумаешь! Ведь мы можем все это закончить в любую минуту…
Просто пока не хотим…
Мы ничего особо не драматизировали тогда, встречались с девчонками,
рассказывали о них и старательно делали вид, что ни капельки не ревнуем друг
друга. Мы не придавали значения тому, что если нужно было выбирать между свиданием
с шикарной девчонкой и вечером с братом, мы оба безоговорочно выбирали
последнее.
Шенн впервые начал заводить разговоры о том, что нам «пора завязывать» —
которые мне очень не нравились, — в тот год, когда в меня влюбилась Салли
Моргенстерн — королева красоты нашей школы и дочка самого успешного адвоката
всей округи. Не знаю уж, что она разглядела в оборванце, который к тому же был
на год младше ее и все перемены был занят тем, что выглядывал своего старшего
брата в компании старшеклассников, которые собирались за школой, чтобы забить
косячок! Но суть в том, что именно эта красотка заслала ко мне свою
подружку-страхолюдину, которая служила у нее на побегушках, и совершенно
недвусмысленно передала мне приглашение на какую-то там вечеринку в ее доме — любовное,
блядь, письмо, по-нашему. Шенн был со мной в тот момент; он сразу нахмурился, и
вместо того, чтобы обсудить с ним прелести этой Салли, мы поссорились. Он
молчал весь вечер и отпихивал меня с моими обычными приставаниями, а потом,
когда я решил взять его штурмом и, прыгнув в его кровать, ловко пристроился
между ним и стенкой (выудить меня оттуда было очень трудно — и я пользовался
этим приемом, когда мы ссорились), Шенн повернулся ко мне и неожиданно серьезно
сказал:
— Послушай, Джей, Салли — отличная девчонка, она для тебя — хороший шанс. Я не
хочу, чтобы ты его упускал. Она хорошо учится, выглядит что надо, и ее отец…
понимаешь, может помочь тебе в будущем, если у вас все получится… Мне кажется,
она всерьез на тебя запала — раньше она никогда сама к парню не клеилась… В
общем… катись в свою кровать и думай о том, как ты будешь ее завоевывать!
В ту ночь я сначала остервенело спорил с Шенном, потом доказывал, что она мне
не нравится, а затем шантажом остался с ним, заявив, что буду вести себя с Салли
хорошо, только если он меня не выгонит из своей постели.
На следующий день я надел на себя самый идиотский прикид из всего своего
скудного гардероба, прихватил с собой самую прожженную шлюху нашего городка — и
в таком виде явился к Салли на вечеринку. Чтобы у нее точно не оставалось
сомнений насчет того, что я о ней думаю. Fuck, да эта сучка чуть не поссорила
меня с братом!.. Шенн не разговаривал со мной неделю (ужасная была неделя,
кстати), зато день нашего примирения я не забуду никогда…
После этого мой брат еще раза два заводил свою шарманку о том, что мы должны
начать нормальную жизнь, а не зацикливаться друг на друге. Он всегда чувствовал
себя ответственным за то, что между нами происходило, хотя если бы не моя
инициатива, мы бы навсегда остались всего лишь братьями.
Так вот, когда он уехал в этот свой Индианаполис, я сравнительно легко это
пережил: идиотство и оптимизм юности не знает границ! Он приезжал — и я
самонадеянно думал, что так будет всегда. В очередную субботу утром я слышал
сквозь сон, как возле дома с грохотом притормаживает его проржавевшая рухлядь,
мгновенно вскакивал с постели и, если мама была дома, судорожно умывался. Шенн
— под предлогом того, что ему нужно поставить сумку в спальне — поднимался в
нашу комнату и едва не падал от веса моего тела, потому что я не тратил время
на слова. Он всегда ворчал, что благодаря мне у него реакция, как у
бейсболиста…
Теперь он пах другим городом и новыми сигаретами, но под несколькими слоями
чужих запахов я всегда находил его собственный. За тот год он почти убедил меня
в том, что наше расставание неизбежно — я слушал его раз за разом и привыкал к
этой мысли. А за месяц до того, как я сам отправился в Филадельфию, Шенн
приехал в последний раз, очень грустный и немного отдалившийся от меня. Он сказал,
что дома мы уже не увидимся — у него какая-то срочная работа, но, конечно,
будем держать связь после начала моей учебы.
— Ты помнишь, о чем мы говорили? — все допытывался он. — С этого дня мы с тобой
— только братья, не больше и не меньше!
— Да-да, я помню… — шептал я со смехом, отбирая у него пульт от телевизора, в
который он вцепился так, что костяшки пальцев побелели. Я просто не воспринимал
все это всерьез, я ни о чем не думал.
В ту ночь он не хотел спать со мной — я практически его изнасиловал и тут же
отключился в его объятьях; а Шенн, кажется, не спал всю ночь. Рано утром он
поцеловал меня, сонного, каким-то необычно долгим поцелуем, почти мучительным,
и уехал — мрачнее тучи. Я не понимал, что его беспокоит.
Последний месяц дома прошел в заботах: выпускной и все такое; и вот я уже
трясся в автобусе и с улыбкой вспоминал Шенна, надеясь, что все будет так, как
сказал мой брат, — хорошо и интересно…
2.
В общем, жизнь меня обломала уже за первый год учебы. Нет, все было хорошо —
мне было легко учиться в заведении, где студенты, помешанные на модернизме,
искренне думали, что Гессе — это модель немецкого самолета времен второй
мировой войны. Я записался на совершенно разные предметы, но поначалу много
рисовал. Мои работы хвалили преподаватели, их забирали на студенческие выставки
— и бабушка Руби начала всерьез мной гордиться. У меня сразу появилось много
друзей — от полных психов до мальчиков и девочек из приличных семей, умненькие,
красивые, уродливые, но талантливые, не от мира сего, богатенькие и такие же
нищие, как я… В общем, разные. И с девчонками у меня проблем не было. Дома я на
них не зацикливался, а тут мое либидо полностью сконцентрировалось на
хорошеньких блондиночках, которых вокруг было — пруд пруди. И очень часто они
не дожидались особого приглашения. Понемногу я стал более уверенным в себе,
хотя и раньше не страдал от комплексов, более открытым — в общежитии невозможно
весь вечер просидеть в одиночестве с книжкой, более… мужественным. В общем, моя
жизнь стала именно такой, какой я видел ее в прекрасных снах: я занимаюсь
искусством, путаюсь в именах многочисленных подружек, меня считают классным и
талантливым. Бля, ну что еще нужно парню моих лет? Я был счастливчиком. И был
абсолютно и беспросветно… несчастным.
Я не мог понять самого себя, но какая-то пустота в сердце просто пожирала меня
изнутри. Мои эскизы стали пугающими и почему-то прекрасными — наверное, только
страдание порождает настоящий Свет. Много раз я протягивал руку за флакончиком
«Прозака», который упаковками глотал грек Нико — мой депрессивный сосед по
комнате, но, слава Богу, вовремя останавливался. Среди моих друзей депрессии
были чуть ли не в моде, но я знал: это что-то другое. Эта пустота — она имеет
ИМЯ, которое я не решаюсь назвать.
Домой я приезжал не очень-то часто; Шенн — еще реже. Мама и бабушка Руби
устраивали нам целые истерики по этому поводу, но потом смирились, решив, что
«мальчики выросли». Мы с Шенном созванивались каждую неделю; у него в квартире
не было телефона, поэтому мой брат всегда звонил сам — в назначенный вечер я
даже дверь в сортир за собой не закрывал, боясь проворонить его звонок. Этот
идиот Нико мог его просто не услышать под своим вечным кайфом. Изредка мы
виделись. Пару раз я приезжал к нему — и ночи мы проводили на разных концах
огромной кровати, которая занимала половину единственной комнаты крошечной
квартирки в криминальном районе. Вторую половину завалила его старенькая
барабанная установка, видавшая виды; да и жил он здесь именно потому, что
соседям было наплевать на его drum-хобби. Шенн запрещал мне выходить без него
из квартиры, настолько опасно там было находиться; а меня после этих посещений
душили сны, в которых окровавленный брат валялся за домом, умирая после нападения
каких-нибудь отморозков. Встречаясь, мы сдержанно обнимались, тут же отскакивая
друг от друга, и все время между нами что-то стояло. Мы не могли смотреть друг
другу в глаза, отводя их уже через мгновение. Это был не стыд, а страх увидеть…
показать… Не знаю. Он менялся, как и я, — становился все жестче, все
мужественнее, все сильнее. Я это замечал, потому что у меня не было
возможности, как раньше, отыскать прежнего ласкового Шенна — который мог часами
гладить мои волосы и целовать чувствительное местечко на сгибе локтя — в
полутьме ночи, в теплых простынях, в моих объятьях…
Однажды он приехал в Филадельфию на два дня и остановился у друга. Позвонил мне
и пригласил в какой-то клуб — я сорвался с важной выставки, ни минуты не
раздумывая, и уже через полчаса сидел в его машине. В тот вечер мы развлекались
на какой-то вечеринке — я глаз с Шенна не сводил; и глаза мои щипало —
наверное, от табачного дыма. Потом он — ради такого случая не прикасавшийся к
спиртному — отвез меня к общаге, остановился у ворот. Я сидел, тупо смотрел на
светящуюся в темноте салона панель радиоприемника на приборной доске, и вдруг
ясно понял: если бы Шенн сейчас завел мотор и повез меня… куда угодно… я был бы
счастлив. Я попрощался с ним, как зомби, вылез из машины, и, глядя вслед
отъезжающему автомобилю, все повторял и повторял: «Шенн… Шенн…» — снова и снова
давая имя той пустоте, которая разъедала мое сердце вот уже целую вечность.
Когда на следующий день мой преподаватель скульптуры — очень изысканный и
по-своему красивый гомик со стажем и гейским именем Густаво — в миллионный раз
попросил меня позировать ему обнаженным, я впервые… согласился.
Да, я хотел СРАВНИТЬ. Я хотел ВЫЛЕЧИТЬСЯ. Это была защитная реакция — но, к
сожалению, это меня и добило. Я пришел в студию поздно вечером (старикан-сторож
упорно не хотел меня пускать, пока не поговорил по телефону с Густаво),
поднялся по лестнице и минутку потоптался у двери, собираясь с силами. Может, я
бы и не решился, но последняя встреча с Шенном совсем выбила меня из колеи, все
казалось мне нереальным, я жаждал, чтобы меня или вылечили или сломали, как
игрушку.
Густаво был чисто выбрит в тот вечер, от него пахло чем-то умопомрачительно
дорогим, он был мягким и обольстительным со мной — мне сразу пришло в голову,
что он воображает себя этаким совратителем святой невинности, ведь у меня была
стойкая и однозначная репутация натурала. Если бы он знал, сколько раз… сотен
раз… Но у меня был только Шенн; когда я разделся и улегся, как просил Густаво,
на специальный подиум для моделей, устланный алым атласом, мне стало страшно.
Кто знает, вдруг он извращенец или садист? С другой стороны, старикан внизу
видел, как я вхожу, знал, к кому я иду, так что…
Я зря боялся. Густаво был великолепен. Он не трахал меня, а наслаждался моим
телом: языком, губами, руками он творил со мной такое, что я даже в экстазе от
его ласк вдруг подумал: а не взять ли у него несколько уроков? Все было
идеально. Совершенно.
А потом я понесся в другое крыло Академии. В сортир. Я взглянул на себя в
зеркало — и увидел Шенна. Зеркало треснуло от первого же удара, а от второго
разлетелось на острые осколки… Я не помню, как я размолотил умывальник… Потом я
заперся в кабинке… И там, лежа мордой на грязном толчке, я миллион жизней бился
в истерике, какой у меня никогда не было — и, наверное, не будет…
Густаво не досталась моя девственность, зато ему удалось лишить девственности
мое… сердце. Словно туман передо мной рассеялся — и я все увидел так ясно, что
перестал дышать. Вся реальность почти погасла, убавила свое сияние — и теперь я
видел только себя и Шенна — как в длинном узком коридоре, в котором могут
протиснуться только двое, а одному там делать нечего. Мой брат… Шеннон… Он был
в миллион раз менее опытным, в тысячу — более неуклюжим в постели, чем Густаво,
но… fuck… разве с чем-нибудь можно было сравнить это чувство, которое посещало
меня каждый раз, когда мы были вместе, — чувство, будто я оставляю этот убогий
кусок мяса, который зовется телом, тут, на земле, а сам просто… исчезаю. Не
умираю — а просто сливаюсь с чем-то огромным и неуловимым, как ветер… или
воздух. Преодолеваю тысячи миль. И — главное — я знаю, что и Шенн со мной!
Я — идиот — думал, что мы просто трахаемся, что с кем-то может быть еще лучше…
Только в тот вечер, рядом с вонючим толчком, я понял, что Шенн и я — как замок
и ключ — только вместе имеем значение, только вместе можем быть «целыми». Это,
блядь, Любовь — понял я, истерично смеясь в той кабинке, — fucking любовь — та
самая, над которой ржут кретины-подростки — такие, каким и я был недавно…
В тот же вечер я понял еще кое-что: мало получить Любовь, нужно ее еще
удержать. Но Она ускользает от тебя, дразня и даже не давая понять, записан ли
ты в ее «бальную книжку», а если записан, то на какой танец — румбу, вальс или
аргентинское танго?.. И вот тут приходит главная боль: не приправленная
цинизмом и твоей волей. Этой стихии ты не можешь сопротивляться, не можешь
«держать лицо»: ты можешь только свернуться в клубок, закусить свой собственный
хвост до крови и… наслаждаться горьким солоноватым вкусом боли. И ты даже не
станешь искать смерти — потому что жизнь — эта грязная шлюха — уже поймала тебя
в ловушку на свою вечную приманку — Любовь.
Я проспал три дня. Это не преувеличение. Нико, с перепугу за меня забывший
принять свои таблетки, сказал, что в первый же день мне звонил Шенн, но он
сказал ему, что я на вечеринке. «Не хотел заводить твоего брата, друг! Думал:
может, ты просто обкурился чего…»
Я спал, потом просыпался ненадолго, все плыло перед глазами, я чувствовал себя
так, будто едва выжил в авиакатастрофе. Вечером третьего дня я, пошатываясь,
встал с постели, вытащил лист бумаги и акварель — это всегда мне помогало. Я
водил кисточкой по бумаге целый час, но даже не мог сфокусировать взгляд на
листе. Обычная терапия не действовала. Мне хотелось кричать — срывая голос, до
потери сознания… так кричат животные, когда чувствуют приближение смерти… Я
снова упал в постель и погрузился в липкую тьму.
Утром я проснулся с четкой мыслью: я должен увидеть Шенна. Посмотреть ему в
глаза, сказать ему… Я не знал, что именно, но это было просто необходимо. Если
потребуется, я встану перед ним на колени… Я был на грани.
У дверей университета я столкнулся нос к носу с Густаво — и поразился выражению
одновременного испуга и облегчения на его лице. Он схватился за сердце и, не
обращая внимания на студентов, вцепился в мои плечи:
— Джаред, что случилось? Ты не был на занятиях, твои друзья сказали, что ты
заболел… после того вечера…
— О нет, все в порядке! — бедняга, он подумал, что я слетел с катушек из-за
него. — Это не связано с тобой.
Густаво немного успокоился, но мягко задержал меня, когда я сделал несколько
шагов вперед.
— Что с тобой? Ты как будто на том свете побывал!
— Ничего. Я не хочу об этом говорить! — Я уже начал терять терпение, меня
волновало только то, что я могу опоздать на гребаный утренний автобус до
Индианаполиса.
Вдруг Густаво взял меня за подбородок своими холеными пальцами и пристально
заглянул в мои глаза — я смотрел на него невидящим взглядом… Я долго потом не
мог понять, что он имел в виду, сказав после этого:
— Понятно. Я завидую тебе, малыш.
Тогда я мотнул головой и бегом побежал на вокзал, не задумываясь над словами
Густаво; намного позже снова возник в моей голове грустный голос скульптора.
Автобус ехал безумно медленно — мы застряли в пробке на выезде из города, и я
чуть с ума не сошел за полчаса простоя. Потом кретин-мексиканец за рулем такси
долго не мог найти квартал, в котором жил Шенн, и в довершение всего перепутал
дома, высадив меня у дома как раз напротив квартиры моего брата… Я вылез из
такси, проклиная все на свете и… увидел Шенна на другом конце улицы, прямо
через дорогу. Он меня не заметил. Я, подчиняясь какому-то инстинкту, вошел в
густую тень от газетного лотка и уставился на брата. Он держал за руку рыжую
девчонку (он говорил мне про нее в прошлый раз) — от таких без ума все мужики,
и переговаривался с двумя парнями. Они направлялись к новенькому белому авто,
смеялись и громко обсуждали какой-то концерт… Я не окликнул Шенна. Просто стоял
и смотрел на него из своего укрытия, на то, как он смеется и прижимает к себе
красивую девушку. Они уехали, а я уселся прямо на грязную ступеньку дома, рядом
с помоечной собачонкой и чернокожими мальчишками, которые вполне были способны
выпустить мне кишки только за один мой кожаный рюкзак. Мне было наплевать,
страха не было. Ничего не было. В то мгновение я ясно понял одно: я смог бы
вернуть Шенна в свою постель, смог бы уговорить его, но… я просто не имел на
это права. Он заслужил то, о чем мечтал: нормальную жизнь. Я слишком любил его,
чтобы подложить такую свинью, разрушить то, что он так долго строил. Все
говорят, что нужно бороться за свою любовь и свое счастье, но что делать, если
бороться предстоит с тем, кого любишь?
Я вернулся в Филадельфию уже ночью, еще более изможденный, чем до этого. Я
ощущал себя призраком или тенью — и уже ничего не чувствовал. Открыл дверь в
комнату, равнодушно посмотрел на кровать Нико, которая поскрипывала под весом
двух тел, и просто упал в свою постель. Если бы в эту ночь на нашу общагу
сбросили атомную бомбу, я был бы только рад…
Шенн снова позвонил через день после моей поездки и озабоченно спросил, как у
меня дела, сказал, что ему приснился плохой сон про меня. Ха, было бы странно,
если бы он ничего не почувствовал в эти дни, которые я провел в бреду, думая
только нем! Я спокойно сказал, что просто был занят зачетами. Он сказал, что
хочет летом поехать с друзьями на какую-то работу в Техас и надеется, что я
составлю ему компанию. Я в ужасе прикрыл глаза, а потом отказался:
— Знаешь, мой преподаватель предложил мне летом поработать у него ассистентом,
он пишет книгу; это хорошая возможность, понимаешь…
Шеннон по-настоящему расстроился, но выдавил из себя:
— ОК, bro, это действительно лучше, чем заниматься всякой фигней в Техасе!
Приедешь ко мне в этот уикэнд?
— Нет, Шенн, я занят — знаешь, у меня появились кое-какие планы на следующий
год, правда, я еще не решил… — я и сам чувствовал, насколько фальшивым и
мертвым был мой голос. Мы попрощались… до следующего Рождества. Да, мы не
виделись полгода. Я бросил fucking университет и Филадельфию; что-то гнало меня
оттуда, я разочаровался в том, что изучал, и просто больше не мог сидеть на
одном месте. Я решил начать новую жизнь, я действительно на это надеялся —
сорвался и уехал в… Нью-Йорк. К счастью, меня без проблем перевели на актерский
факультет — и теперь я был на другом конце страны от моего брата. Все лето я
просидел в Нью-Йорке, подрабатывая то там, то сям, изредка отвечая на
телефонные звонки Шенна; когда поехал к маме, специально высчитал дни так, чтобы
не столкнуться там с братом. Осенью я устроился на работу, которая отнимала у
меня полжизни, снял квартиру в Бруклине и попробовал начать жить. Я даже
умудрился смыться из города, когда мой брат собрался в Нью-Йорк на выходные.
Конечно, он видел все эти мои ухищрения — его я не мог обмануть. Мне было
чертовски тяжело без него, но еще хуже было бы видеть его — если даже
телефонные разговоры причиняли мне боль. Шенн думал, наверное, что я не хочу
его видеть, что отдалился от него… сначала он постоянно звонил мне, посылал
открытки из Техаса, предлагал встретиться, а потом просто перестал добиваться
моего общества. Наверное, решил, что так будет лучше. Не знаю. Только наше
общение по телефону стало хождением по лезвию бритвы — даже если не
оступаешься, кровь хлещет фонтаном…
Но на Рождество я не мог не поехать домой — во-первых, меня бы убили мама с
бабушкой, во-вторых, это было бы уже слишком. Да еще мой День Рождения… Я
готовился к этому дню, как Христос к Голгофе, а когда подходил к нашему дому,
чуть не потерял зрение, вглядываясь во двор: нет ли машины моего брата? Но он
еще не приехал, поэтому кошмар ожидания для меня затянулся.
С порога на меня напала мама с бабушкой, потом атаковали мамины старинные
друзья, которые знали нас еще маленькими, — они приехали погостить на
рождественские каникулы вместе со своими тремя детьми, и закончился хоровод
моим двоюродным дядькой, который всегда путал меня с Шенном. Я отлично
притворялся: начал травить байки про свою студенческую жизнь, довел всех до
колик от смеха, вытащил и раздал свои подарки… А потом я полез под
рождественскую елку — мама именно туда положила подарки для нас, это была ее
шутка: она и раньше повторяла, что мы для нее будем всегда маленькими. В общем,
я полез под елку и, стоя там на четвереньках, начал терзать ярко-синюю упаковку
подарка, предназначенного мне, не отрывая взгляда от небольшой зеленой
коробочки с надписью «Шенн»…
— Шенн! — резкий вскрик бабушки Руби чуть не довел меня до инфаркта; я резко
повернулся и шлепнулся на задницу, все еще судорожно прижимая к себе
разноцветную коробку… наши с Шенном взгляды встретились. Мое сердце пропустило
не один удар. И даже не пять. Он стоял на пороге гостиной и смотрел на меня,
бабуля висела у него на шее, а я не мог отвести от него глаз. Я молчал, пока он
целовал маму и здоровался с гостями, я просто сидел, как полнейший идиот,
застыв, с этими подарком в руках, на полу под елкой, и ждал, когда Шенн
доберется до меня. У бабули зашипел пирог на кухне, дети помчались вслед за
ней, а мама принялась отбирать у дядьки бутылку вишневого ликера — и именно в
этот момент мой брат подошел ко мне. Встал на колени и обнял меня; чтобы не
вцепиться в него мертвой хваткой, я сжал кулаки и закрыл глаза. На мгновение он
прижался колючей щекой к моей, и я почувствовал его дыхание на своем ухе:
— Здравствуй, малыш. Совсем забыл меня, да?..
Знаете, я ведь совсем не из тех мужиков, которые по любому поводу распускают
сопли и рыдают на плече у друзей и родственников. Но тогда я не заплакал только
потому, что вокруг были люди, и мне пришлось усилием воли загнать соленые капли
себе в горло. Я не мог ничего ответить, только улыбнулся, как умалишенный, а
Шенн, милосердно отведя от меня взгляд, потянулся через меня к своему подарку:
— О, мама в своем репертуаре! — он начала распаковывать свою коробку, но если
бы я мог тогда соображать, то заметил бы, как блестят его глаза за
полуопущенными ресницами. Но я не мог соображать. Я просто смотрел на него,
стоящего передо мной на коленях — руку протяни и дотронешься, — и понимал, что
долго так не выдержу. Он изменился, мой брат. Даже внешне — крепкие плечи,
сильная шея, почти резкие черты лица, ловкие пальцы, быстро разрывающие
блестящую бумагу. Только глаза и губы остались прежними — мягкими, нежными…
родными…
«Детские игры» действительно закончились, но вместо их мы оказались в
водовороте других игр, к которым мы не были готовы…
За праздничным ужином мама виновато сказала, что дети будут ночевать в нашей с
Шенном спальне — больше их просто некуда было положить.
— Диван в гостиной широкий, вы, мальчики, вместе на нем легко поместитесь!..
Ну, как, ничего?
Шенн, дожевывая пирожок, равнодушно пожал плечами и кивнул:
— ОК, мам, мы с Джеем не привередливые, да, братишка?..
Я с трудом проглотил слюну и хрипло прокаркал свое «Sure, mom!», чувствуя, как
почва уходит из-под ног. К счастью, у нас с Шенном не было возможности остаться
наедине в тот вечер. Один раз я вышел с ним и дядькой на крыльцо — они курили,
а я просто присел на перила лестницы за кампанию. Наверное, было холодно, но я
не чувствовал ничего; я смотрел на красный огонек сигареты Шенна, который
отбрасывал кровавый отблеск на лицо моего брата, и мне все казалось сном. Вино
развязало язык дядьке, и он говорил, не закрываясь ни на минуту, а Шенн
периодически не очень-то искренне смеялся его шуткам каким-то новым для меня,
низким и хриплым, смехом. В одно мгновение я вспомнил, как однажды, года три
назад, когда… когда мы были вместе, мы с братом сидели в его постели и курили
какую-то траву, принесенную Шенном. Трава была самая-самая легкая, да и то я
едва выклянчил ее у Шенна. Мамы не было дома… было глубоко за полночь… мы
сидели в кромешной тьме, глядя на осколок луны за окошком… обнаженные, обнимая
друг друга… и передавали из рук в руки желтый косяк. У меня кружилась голова, а
Шенн смеялся надо мной и все повторял, что мне, как девчонкам, противопоказано
пить и принимать наркотики. Тогда я откинул голову на плечо брата, чувствуя,
что потолок вращается, как карусель, и облизал губы — это был наш негласный
способ намекнуть: «Ну же, поцелуй меня!»…
Нет, вспоминать это было большой ошибкой. Я опустил голову и тряхнул ею: черт,
слишком больно!.. Мы вошли в дом, и я боялся смотреть на Шенна.
Я первым переоделся в ванной в пижаму, принесенную мамой, — то ли мою, то ли
моего брата, я уже не помнил. Потом, дрожа от холода, прошел через гостиную,
обнаружив, что дядьку уложили на кушетке неподалеку от нашего дивана (на
мгновение я почувствовал острое разочарование, будто на что-то надеялся этой
ночью), шутливо дал пинка шестилетнему Йену, носившемуся по лестнице
вверх-вниз, и, наконец, нырнул под огромный шерстяной плед на разложенном
диване. Шенн появился намного позже, когда я уже начал успокаиваться и
вообразил, что мне удастся заснуть до его прихода под густой храп дядьки. Он
подошел совершенно бесшумно — и я испуганно встрепенулся, когда он осторожно
поднял один угол пледа, чтобы не разбудить… меня? Он был в одних пижамных
штанах (своих или моих?), и я неожиданно сам для себя почти смущенно отвел
глаза от его голого торса; он присел на диван и с улыбкой прошептал:
— Я думал, ты уже спишь…
— Под такой аккомпанемент?.. — я кивнул на внушительную тушу на кушетке,
издающую звуки, похожие на работу двигателя, по меньшей мере, пикапа.
Шенн улегся и, как когда-то, мягко подтолкнул меня, заставляя подвинуться.
Диван не был таким уж широким. Попросту говоря, он был откровенно узким, и,
когда на нем оказались мы оба, я почувствовал, что мы с братом будто очутились
на необитаемом острове: слишком мало места — слишком много эмоций… которые
нельзя показывать. Я просто замер, лежа на боку, чувствуя его плечо, прижатое к
моей руке, его ногу в миллиметре от моей — так близко, что волоски на теле
вставали дыбом. Мы снова молчали, потому что говорить о всякой ерунде, врать
казалось кощунственным, а сказать правду я не мог. И Шенн, наверное, тоже.
Тогда я так был сконцентрирован на собственных ощущениях, что мне казалось:
только я из нас двоих страдаю, а он просто засыпает, ни о чем не думая. Глупо
повторять это снова, но я тогда все-таки был полным кретином…
В какой-то момент Шенн шевельнулся, его ладонь случайно задела мой живот, и я…
зажмурился, проклиная Рождество за то, что мне приходится терпеть эту пытку.
Воспоминания тут же нахлынули на меня — все эти мелочи, которые всплывают из
памяти только тогда, когда уже ничего не вернуть. Тысячи мимолетных
прикосновений, каждое из которых значило намного больше, чем могли вообразить
окружающие; сотни поцелуев — от сорванных чуть ли не силой до долгих-долгих,
которые были важнее, чем секс; десятки случаев, когда Шенн помогал мне, спасал
мою задницу от жутких неприятностей, а когда я принимался его благодарить, он
просто отмахивался или, повалив меня на ковер, шутливо душил, говоря, что
когда-нибудь я расплачусь за все натурой. Я лежал рядом с Шенном, не смея
прикоснуться к нему, снова и снова втыкал острые шипы в свое сердце (если
банальная метафора истинна, и любовь — это роза с шипами, то я на своем опыте
узнал: чем красивее цветок, тем длиннее его шипы), вспоминая нашу вечную возню
в кровати Шенна — она, в отличие от моей, не скрипела. Сейчас в ней спят дети
наших друзей… если бы они знали… Последней каплей стало воспоминание о нашей
последней ночи — о том, сколько печали было в глазах Шенна, как будто он уже
тогда знал, как все это будет тяжело. И тот последний поцелуй — необычный…
отчаянный… прощальный…
Я приподнялся на локте и заглянул в лицо Шенну; глаза уже привыкли к темноте, и
я увидел, что он не спит еще, просто затаился, как и я. С минуту я колебался, а
потом зарылся с головой под плед, сполз немного вниз и… уткнулся лицом в грудь
Шенна, обхватил его талию, закинул одну ногу на его бедро. Я не мог сделать
больше, но… черт, я бы всю жизнь жалел, если бы упустил возможность хотя бы еще
одну ночь проспать, прижавшись к нему вот так — всем телом. Он не оттолкнул
меня; а я в благодарность за это удержался от того, чтобы поцеловать его. Потом
он положил руку на мою голову и погладил мои волосы — и я отключился,
измученный всем этим, до самого утра.
Мама едва не запустила в меня сковородкой, когда утром я пришел к ней на кухню
и сказал, что должен уехать: мол, пообещал устроить вечеринку для моих друзей в
Нью-Йорке. Бабуля и вовсе на меня обиделась. А Шенн… он внимательно посмотрел
на меня и, опустив глаза, кивнул:
— Я отвезу тебя в аэропорт.
Прощание с родными было скомканным — они злились на меня, потому что собирались
отметить мой день рождения вечером всей семьей. Я чувствовал себя страшно
виноватым, но… я просто не мог так больше. Я проснулся на рассвете — мой брат
еще спал; его рука привычно обнимала меня за шею. Глядя на него, я просто
понял, что не смогу больше притворяться — и все закончится либо скандалом, либо
моей собственной истерикой, либо ссорой с Шенном. Последнего я боялся больше
всего. Одно дело — отдалиться от него, и совсем другое — потерять. Навсегда.
Я закинул свой рюкзак на заднее сиденье, а сам уселся рядом с Шенном. Мы
молчали, пока он выехал на дорогу, молчали, пока его машина не покинула наш
городок… до аэропорта оставалось полчаса езды. Нервничая, я стал переключать
радиостанции: допотопный радиоприемник визжал и свистел, а для меня все мелодии
в тот момент были на одно лицо. Я просто не мог остановиться — пока на
светофоре Шенн не положил свою руку на мою и мягко не отстранил меня от
несчастного радиоприемника. Я виновато откинулся на спинку:
— Извини.
Вдруг Шенн резко свернул с дороги на заснеженную обочину и остановил машину. Я
удивленно уставился на него. Шенн сидел несколько мгновений неподвижно, а потом
повернулся ко мне и положил свою руку на спинку моего сиденья. Я хорошо знал
этот его жест: загоняя меня в угол, он всегда требовал моего внимания.
— Джаред… Что происходит?
Впервые за прошедшие сутки он смотрел прямо на меня — и я предпочел бы не
видеть жуткой смеси из неуверенности и страдания в его глазах, которые в
морозно-белоснежном свете казались скорее зелеными, чем карими.
— Что ты имеешь в виду? — Что я еще мог ответить? Я просто тянул время.
Шенн нетерпеливо придвинулся ко мне, и его рука со спинки кресла переместилась
на мой затылок, заставив меня вздрогнуть.
— Просто скажи мне… я теряю тебя?
Почти два года назад он сделал выбор, решив потерять меня, как любовника, но он
не был готов потерять меня, как брата, как самого близкого человека на земле. А
то, как я себя вел, именно так и выглядело. Блядь. Я впал в ступор, а потом,
испугавшись, что он примет мое молчание за согласие, затараторил:
— Шенн, нет… ты с ума сошел! Просто я сейчас действительно очень занят —
понимаешь, моя новая учеба… я серьезно увлекся актерством, ты же меня знаешь:
если я на что-то западаю, то отдаю себя полностью! Мне дали роли в студенческом
театре, я пытаюсь пройти за один год два курса… Я тебе говорил…
В общем, такую чушь я молол добрых десять минут. Я почти поверил сам себе. А
Шенн — нет. Я видел это по его глазам: он смотрел на меня тяжелым взглядом, не
отодвигаясь, словно не слыша того, что я говорю, он просто впитывал — нет, не
слова! — мои эмоции и страхи, может, даже мысли. Он видел, что я вру — и это
было ужасно. Наконец я выдохся и отчаянно сжал его колено своей рукой, пытаясь
убедить, доказать… Он медленно перевел взгляд на мою руку, потом как-то разом
отстранился, отвернулся и задумчиво посмотрел в ветровое стекло, за которым
была лишь совершенно пустая дорога.
— У меня для тебя есть подарок. — Его голос звучал безжизненно, как у
сломанного робота. — Я хотел отдать тебе его сегодня вечером.
Я почувствовал острую боль в висках. «Черт, черт, черт!» Шенн достал из
внутреннего кармана куртки небольшую коробочку и быстро, не глядя, протянул ее
мне:
— С днем рождения.
Коробочка была теплой — она впитала это тепло от тела моего брата, и я
несколько мгновений просто сжимал ее в ладонях, борясь с желанием спрятать ее
под майку, чтобы это тепло не испарилось, не ушло, чтобы Его запах никуда не
убежал от меня. Но открыть пришлось. В ней лежал, аккуратно завернутый в
полупрозрачную черную бумагу, похожую на траурные кружева, кожаный шнурок с
довольно большим серебряным… фениксом. Я сжал его в ладони так, что острые края
впились в кожу, а сам отбивался всей силой своего отчаяния от почти забытой
сцены… Шенн смотрит телевизор, нарочно не обращая на меня внимания, а я, лежа
животом на ковре у его ног с огромной книжкой — энциклопедией древних мифов и
легенд, ною так громко, что заглушаю даже вопли ведущего ток-шоу:
— Шенн, ну посмотри на это! — и пытаюсь пересказать ему то, что меня потрясло,
— жуткие хитросплетения судеб всех этих чужих богов, не запрещающих брату
целовать брата, легенду о фениксе… Он вроде и не слушал меня тогда; но, сидя в
его машине, я понял, что Шенн слышал и помнил каждое произнесенное мной слово.
Я неловко обнял его — но он и не думал обнимать меня в ответ, просто сидел за
рулем и смотрел куда-то вперед.
— Ты можешь его не носить — я не обижусь. Просто сохрани его у себя. Я хочу…
чтобы у тебя хоть что-то осталось — от меня.
Обратную дорогу на самолете я не помню. Облака, туман, искаженная голограмма
стюардессы, впившиеся в ладонь острые крылья феникса…
Еще меньше я помню следующий месяц. Я просто жил… существовал. Ел, пил, ходил
на занятия — все реже, работал, как зомби, автоматически и бездушно, ходил с
друзьями на какие-то вечеринки, после которых хотелось выть от тоски. С кем-то
трахался, целовал чьи-то шеи, говорил кому-то, что люблю. Если в студии нам
давали задание изобразить что-то трагичное, я срывал аплодисменты…
Шенн звонил мне несколько раз — и оставлял сообщения на автоответчике, просил
перезвонить; в конце концов я просто начал бояться прослушивать записи за день.
Я не перезванивал, у меня больше не было сил контролировать свой голос. Почти
два года без Него — это было для меня слишком…
Он поймал меня однажды в полдень, когда яркий солнечный свет, пробиваясь сквозь
грязные окна моей квартиры, высвечивал чьи-то чужие голые плечи среди моих
простыней. Не помню, как звали эту девчонку, где я ее подцепил; мне запомнилось
только то, что она дремала, отвернувшись к стене, и у нее были оранжевые прядки
в волосах — именно на них я сфокусировал свой взгляд, когда, подняв трубку
дребезжащего телефона, услышал голос моего брата. Я застыл на месте, и мой
взгляд вцепился в ее волосы — мне просто нужно было держаться за что-то…
— Джаред? Привет, куда ты пропал?.. Я звоню тебе целую вечность!
— Я… я редко появляюсь дома, Шенн.
— Мама жаловалась, что ты с ней дольше трех минут не разговариваешь… Как у тебя
дела, все в порядке?
Я закрыл глаза и прижался лбом к холодильнику, на котором стоял телефон. Мне
было плохо. Эта сумасшедшая ночь, эта девчонка — я проснулся посреди ночи и
едва не разбудил ее, чтобы выпроводить: ее присутствие было просто невыносимо.
Я долго умывался ледяной водой, а потом уснул в кресле; нет, с ней было все в
порядке, просто я медленно сходил с ума — постель с мятыми простынями казалась
мне залитой теплой слизью, чем-то липким. Думаю, если бы мне тогда пришло в
голову сходить к психологу, мне бы точно выписали длинный рецепт на разные
психотропные колеса. Я довел себя до какого-то дикого состояния — и как раз в
этот момент позвонил Шенн… Что тут скажешь?
— Все нормально. — «Правдоподобие» прямо зашкалило…
— Джей. Я же чувствую, что что-то не так…
— Ничего ты не чувствуешь! — Я вдруг сорвался и закричал в трубку. Девчонка
дернулась на кровати и проснулась. — Если бы ты чувствовал…
— Что тогда? — В голосе Шенна появились жесткие нотки. — Чего я не чувствую?
Какая-то, fuck, игра в кошки-мышки. Я молчал.
— Джей, что происходит? Я хочу, чтобы ты мне все рассказал.
— А иначе что? Отшлепаешь меня?.. — я истерично засмеялся в трубку, и девчонка
испуганно посмотрела на меня, вывернув шею. Вокруг ее глаз были серо-зеленые
траурные разводы из-за размазавшегося макияжа — это лицо просто чудно дополняло
всю эту сюрреалистическую «картину».
— Джей. Что с тобой? — Он старался быть сильным, мой братик, но я ощущал волну
паники, исходившей от его голоса. Он действительно БОЯЛСЯ за меня. Я судорожно
сжал в руках телефонный провод и, снова отвернувшись к холодильнику, начал
методично отдирать дурацкие магнитики, крепившие к дверце записки и порнушные
картинки, которые мне постоянно оставляли друзья. Бумажные ошметки падали на
пол, под ноги, а магнитики — все эти божьи коровки, крошечные гитарки и паучки
— летели во все стороны… Когда мои пальцы нащупали фотографию, которая мучила
меня всякий раз, когда я подходил к чертовому холодильнику — Шенн и я, в
обнимку, улыбающиеся, глупые, — я смял ее с даже мне непонятным остервенением.
— Что со мной? — Думаю, тогда я уже не контролировал свои слова; даже голос
звучал, как чужой, будто издалека. — А со мной то, что я люблю человека,
который никогда — слышишь: НИКОГДА! — не будет моим, потому что ему на меня
наплевать. — Я уже орал. — А знаешь, кто он? МОЙ FUCKING РОДНОЙ БРАТ!
Я бросил трубку сразу же. Чтобы не слышать его голоса, когда он будет утешать
меня, говорить, что у меня просто трудные времена, что все это просто мои
фантазии. Случилось то, чего я так боялся: я потерял Шенна. Это был конец.
Я обернулся и столкнулся взглядом с выпученными глазами девчонки. Кажется, она
была в шоке от увиденного и услышанного.
— Хочешь кофе?
Она не ответила на мой вопрос, решив, наверное, что я сошел с ума. Быстренько
собрала свои тряпки, сумочку и прошмыгнула мимо меня к входной двери.
— Нет, спасибо, я, пожалуй, пойду… если ты не против…
Я только махнул рукой. Катись. Если уж подыхать от жалости к себе, то лучше без
свидетелей, тем более таких.
Через пять минут телефон зазвонил снова. Я не поднял трубку — по той же
причине, по которой до этого ее бросил. Это был Шенн, и мне не нужен никакой
хренов определитель номера, чтобы знать, когда мне звонит брат! Он все звонил и
звонил… Потом снова… И еще. Сначала мне хотелось разбить телефон. Потом мне
хотелось заплакать. Затем я твердо решил попробовать открыть вечно заедающее
окно…
Когда телефон зазвонил в десятый раз, я поднял трубку.
— Ты долбаный идиот, Джей! — Шенн уже рвал и метал. — Сейчас же оторви свою
задницу от дивана и тащи ее в аэропорт! Если к вечеру я не увижу тебя в моей
квартире, приеду в твой уродский Нью-Йорк — и ты пожалеешь, что мама не сделала
аборт, когда забеременела тобой. Ясно?
Теперь уже он бросил трубку, а я, открыв рот, еще добрых пять минут стоял и
тупо смотрел на телефон, засиженный мухами…
3.
Честно говоря… я просто умирал от страха по дороге в аэропорт, в самолете едва
не попросил стюардессу принести мне хотя бы какой-нибудь слабоалкогольной
дряни, а в такси чуть не выдрал с корнем ручку на дверце, когда выбирался из
автомобиля. Я БОЯЛСЯ НАДЕЯТЬСЯ, что Шенн… «Вот сейчас я приду к нему, — думал
я, готовя себя к худшему, — а он просто вправит мне мозги и выставит за
порог!.. С чего я взял, что он решил…» — и так я мучил себя всю дорогу.
Перед подъездом я задрал голову и долго смотрел на его окно, в котором горел
свет. На мой робкий стук Шенн откликнулся сразу:
— Входи уже!
Я толкнул незапертую дверь и, чувствуя себя примерно так же, как обвиняемый
перед судом присяжных при вынесении приговора, шагнул в его берлогу. Шенн стоял
прямо возле двери, упираясь задницей в древний обшарпанный комод (позже я нашел
в нем заначку бывшего владельца — наркодилера и пятна крови на задней стенке),
в узких голубых джинсах и яркой красной майке с напечатанной на ней рекламой
какого-то стриптиз-клуба, и разговаривал по телефону, кивая, как будто его
собеседник мог видеть этот его жест. Я нерешительно остановился и бросил свой
рюкзак у порога, оглядываясь. Собственно, тут ничего особенно не изменилось за
последние полгода, только барабаны были новыми, кровать — еще большей, чем
раньше, а на полу появился темно-пурпурный ковер с длиннющим ворсом.
— Угу, да… да, конечно… — вдруг Шенн, продолжая кивать в телефон, поманил меня
к себе; я удивленно подошел поближе. Когда он схватил меня за куртку и резко
дернул на себя, я споткнулся и упал бы, если бы Шенн не подхватил меня и…
прижал к себе, обнимая за талию.
— Да, бабуля, не переживай за Джея — он сейчас у меня, хочешь поговорить с ним?
Fucking fuck, бабушка Руби! Так это с ней он разговаривал! Я ошеломленно
посмотрел на Шенна (God, чересчур близко!) — он коварно улыбался — и взял из
его рук телефонную трубку негнущимися пальцами. В голове у меня не было ни
одной мысли. Вообще, даже намека.
— Grandma?..
— Джаред, да что же это такое?! Никто из нас не может до тебя дозвониться, ты
где-то вечно пропадаешь, мы беспокоимся… — ее возмущенные реплики слились для
меня в один сплошной шумовой фон, потому что в этот момент я осознал, что Шенн
и не думал выпускать меня из своих объятий. Он все так же обнимал меня — все
крепче… все ближе…
Когда я попытался собрать прыгающие мысли в связную фразу:
— Э-э-э, у меня были проблемы… но теперь все ОК, правда! Извини, что не звонил…
Я ужасно себя вел, я знаю…
Именно в эту секунду Шенн дотронулся губами до моего виска, вышибив последние
остатки рассудка из моих несчастных мозгов, и прошептал:
— Ты действительно ужасно себя вел, малыш.
Он целовал меня в губы — легко, но мне этого было достаточно для того, чтобы
впасть в ступор; не веря, я отвечал ему, прижимаясь к его телу… а между нами из
трубки звенел голос бабушки Руби:
— Джаред, Джаред! Ну где же ты?! Алло, ты меня слышишь? Джаред!..
Наконец Шенн подхватил телефонную трубку и подмигнул мне:
— Бабушка, не обращай внимания: это мой телефон барахлит! ОК… ОК… Да, я о нем
позабочусь. Мы позвоним тебе завтра, ладно?.. Ну да, может, и приедем позже.
Да-да, вместе. — Шенн положил трубку и твердо повторил, но теперь мне: —
Обязательно вместе. — Он уже не улыбался, наоборот, был серьезен, как никогда.
Он немного отстранился и ловко стащил с меня куртку, потом провел ладонью по
моей груди, шее, щеке, заглянул в мои глаза:
— Черт, моя совесть чиста: я сделал все, что мог, чтобы дать тебе шанс начать
новую жизнь. Без меня.
— Без тебя я ничего не хочу! — Быстро произнес я и подался вперед, к нему,
готовясь убеждать, доказывать… Но Шенн приложил палец к моим губам и снова
обнял меня:
— Тссс! Ничего не говори. Я все знаю…
Мы сорвали одежду друг с друга за считанные мгновения. Шенн прижал меня к стене
так сильно, что я чувствовал, как многочисленные фотографии, приклеенные
скотчем к обоям, царапают мне спину. Он всегда был нетерпеливее меня… Я закрыл
глаза и, зарываясь пальцами в волосы брата, судорожно сжимая его затылок, утонул
в собственных ощущениях: меня сжигала какая-то буйная радость, но одновременно
было почти больно — я был похож на сильно замороженную индюшку, которую, не
размораживая, бросили на решетку барбекю, прямо на пылающий огонь. Как будто за
то время, пока мы были не вместе, я промерз насквозь, стал негибким, каменным,
а теперь Шенн ломал меня, разбивал на кусочки, чтобы оживить…
Вдруг он остановился и сжал мое лицо в своих ладонях, провел большим пальцем по
моей нижней губе, почти неуловимо поцеловал:
— Малыш… ты еще помнишь, что я люблю тебя?
Рассыпайся он в изысканных изъяснениях в любви — все равно это бы не произвело
такого эффекта на меня, как этот десяток банальных слов, составленных в обычном
порядке… Индюшку положили в печку на медленное разогревание… Слезы закапали из
моих глаз… Я хотел отвернуться, спрятать лицо… сказать, что тоже люблю его… Но
Шенн не отпустил меня и не дал ничего сказать — мы целовались так, что в конце
концов я перестал различать, где заканчиваюсь я и где начинается он, а потом мы
неожиданно оказались на пурпурном ковре. Слезы мои высохли — и я был готов
стать хоть жарким, хоть начинкой для мясного пирога. Теперь Шенн был осторожен
со мной, хотя это давалось ему уже с трудом — его выдавали руки, нетерпеливо
сжимавшие мое тело так, что наверняка должны были остаться синяки.
Я изловчился и оказался сверху: уселся верхом на Шенна и уперся руками в его
плечи. Наклонился, лизнул его сосок, поцеловал в шею и с трудом удержал его,
когда он попытался снова прижать меня задницей к Ужасно Мягкому Ковру. Мы оба
тяжело дышали — и я по опыту знал, что цена этой передышке — несколько секунд,
но мне вдруг стало невероятно важно сказать ему кое-что. Я снова нагнулся к
Шенну и серьезно посмотрел в его потемневшие глаза:
— Я больше не отпущу тебя, Шенн. Никогда.
Он улыбнулся мне в ответ — только он ТАК умеет, его руки скользнули вверх по
моим бедрам, и через минуту я застонал, прижимаясь лбом к его плечу.
— Сам же первым от меня сбежишь…
Я из последних сил помотал головой:
— Черта с два. Не дождешься…
Мне запомнился один европейский фильм — мы смотрели его, когда были еще
мальчишками, и Шенн уже на третьей минуте объявил, что это «скукотень» и
«тягомотина», — в нем мужчина и женщина долгих двадцать минут занимались
любовью в полутемной комнате, а за их спинами висела картина с каким-то
дождливым пейзажем, и свет из окошка рассеивал полупрозрачный балдахин… Не
знаю, почему, но эта сцена запала мне в душу — она казалась мне очень красивой,
но абсолютно нереальной, потому что в качестве фона звучала какая-то
запредельная, очень странная мелодия, медленная и неритмичная, а мужчина и
женщина двигались тоже замедленно, словно продирались сквозь какой-то туман… Но
теперь я знал, что режиссер знал, ЧТО он снимает, потому что в тот вечер с
Шенном я почувствовал что-то похожее. Мы выпали из времени, из пространства,
вокруг мне чудился сплошной пурпурный ковер, и мы были будто в тумане —
бесконечно долго ласкали друг друга, наслаждаясь прикосновениями к каждому
сантиметру кожи. Я пришел в себя только в самом конце, когда из реального мира
к нам прорвались звуки ужасной ругани то ли из коридора, то ли из соседней
квартиры — шум стоял такой, как будто кого-то убивали. Я закинул голову,
выгибаясь, и, чтобы не закричать, вцепился зубами в руку Шенна, чуть выше запястья.
Он стиснул челюсти от боли и — одновременно — наслаждения, но не издал ни
звука. Не то чтобы я боялся, что меня услышат — просто не хотел НИЧЕГО
выпускать из себя…
Потом я виновато, но с наслаждением зализывал свой укус на руке Шенна — ряд
ярко-красных отметин полукругом на его загорелой и чуть солоноватой коже.
— Прости.
— Сейчас ты похож на кота, которого сначала бросили в ванну с холодной водой, а
потом накормили самыми жирными сливками…
— Мяу!
Мы оба засмеялись, и я поразился тому, как быстро рухнула стена между нами.
— Послушай… — Шенн приподнялся на локте и посмотрел на меня сверху вниз. — Ты
же понимаешь, что рано или поздно нам все равно придется… подумать о будущем.
(Теперь «начать новую/нормальную жизнь» стало называться «подумать о будущем»?)
Я отвел глаза:
— Да, конечно.
Мы оба лгали — и оба знали, что врем. Да, после того мы еще не раз и не два
возвращались к этому: убеждали друг друга, что пора создать семью,
остановиться, стать такими, «как все» — но из этого ничего так и не вышло.
Долгие годы мы катались с Шенном на «американских горках»: расставания, ссоры,
хлопки дверью, «перспективные» девушки, жуткие недели одиночества, ревность,
воссоединения, сумасшедший секс… нет, не секс, занятия любовью… Самым тяжелым
был последний наш кризис — несколько лет назад. Я первым понял, что мы такие,
какие есть, что с этим ничего не поделаешь — но Шенн с годами стал намного
более упертым, чем в юности. Я фактически бросил ему в лицо песни для нашего
нового альбома, я срывал голос на концертах, пытаясь докричаться до него, на
акустиках я пел так, что бродячие собаки на задних дворах начинали тоскливо
выть… И в конце-концов и эта стена рухнула. Теперь с меня достаточно: я оставлю
Шенна в покое только в том случае, если мы разлюбим друг друга. То есть
никогда.
А тогда, после того счастливого для нас вечера и безумной ночи, я просто
остался у Шенна — даже за своими вещами слетал в Нью-Йорк только через две
недели. Мне все время казалось: стоит мне уехать, и он все забудет… Страх,
который въелся в меня намертво — увидеть его отворачивающимся от меня, его
спину — заставлял меня вести себя, как привязчивая влюбленная девчонка…
Дня через два-три Шенн поехал на какую-то фотосессию, не пожелав взять меня с
собой («Ты мне моделей будешь отвлекать своей соблазнительной задницей!»), и я
просто слонялся по квартире в трусах и каком-то темно-синем свитере Шенна,
взлохмаченный, но в отличном настроении, когда в двери позвонили. Я открыл,
запоздало вспомнив, что мне запрещалось открывать двери. На пороге стояла та
самая рыжая девчонка — Стейси, вспомнил я ее имя, — с которой встречался мой
брат. Она изумленно уставилась на меня своими ярко-голубыми глазами, а потом
перевела уже возмущенный взгляд на свитер:
— Кто ты такой? Какого хрена ты делаешь в квартире моего парня… в трусах? И с
какой это радости на тебе его свитер, который Я ЕМУ ПОДАРИЛА?!
Я, честно говоря, здорово рассердился. МОЕГО парня? Извини, дорогуша, но он,
прежде всего, — МОЙ!
— Шеннон — благородный человек, он не выбрасывает своих любовников на улицу
сразу после офигительной ночи любви, знаешь ли… и какого-то свитера ему ради
такого случая не жалко — мою-то рубашку он изорвал в порыве страсти!.. А
вообще-то, я его брат — и Шенна нет дома.
В начале моей блестящей импровизации Стейси задохнулась от возмущения, но когда
я сказал, кто я, она все еще сердито, но уже с любопытством всмотрелась в мое
лицо — будто я был занятным домашним любимцем…
— А, так ты и есть тот самый Джаред?.. А ты, и правда, красавчик…
Чего-чего? Неужели эта дылда только что намекнула, что Шенн не только
рассказывал про меня, но еще и расписывал мою неземную красоту? Я тут же
почувствовал себя увереннее.
Стейси практически отпихнула меня с дороги и ворвалась в квартиру, явно
чувствуя себя тут, как дома. Мне, после того, как я сегодня утром заявил Шенну,
что две полки в ванной — отныне мои, и пусть даже не спорит, захотелось
стукнуть ее чем-нибудь тяжелым. Вдобавок она плюхнулась на НАШУ кровать и
схватила с полки засаленный Rolling Stone:
— Я подожду. Шенн обещал сегодня сводить меня в «Ocean Blue»…
В «Ocean Blue»?! В новый рыбный ресторан на углу улицы? Fucking bitch! Нет, так
не пойдет. Я, чтобы выиграть время, придал голосу выражение «sweet boy»:
— Не хочешь зеленого чаю? Я собирался заваривать.
— Давай!
Мышьяку туда, что ли, подсыпать?.. Я расстроено поплелся к плите. Придет Шенн,
они пойдут в этот хренов ресторан, потом она закатит ему сцену по поводу того,
что к нему нельзя (А ее вообще не смущает мысль о том, что в квартире нет
больше ни одной кровати, дивана и даже кресла?! Где, интересно, по ее мнению,
сплю я? Вот вам плюс того, что мы братья: всегда есть хорошее оправдание…). А
потом она, конечно, потащит его к себе. Трахаться. Fuck.
— Эй… Джаред? А куда Шенн пропал?
Естественно, тебе, дуре, в музыкальном журнале читать нечего?! Скучно стало?
— На фотосессию… — О, а это идея! — Для какого-то модного журнала. Дюжина
обнаженных «русалок», брызги воды — по-моему, это будет реклама духов!
— Модного журнала? — Стейси мгновенно «выросла» передо мной. — Но он не снимает
для модных журналов! — Она смотрела на меня почти подозрительно. Ну же, Джаред,
ты чего, зря год ходил в актерскую студию?! Я небрежно пожал плечами:
— Ну да. Ему вчера вечером позвонили и предложили кого-то там заменить. Он и
согласился: деньги-то хорошие, а работа… приятная! — Я обольстительно улыбнулся
девчонке и даже подмигнул. Настроение у Стейси тут же упало ниже уровня моря.
Следующие полчаса в ожидании Шенна она мерила шагами комнату, то и дело
натыкаясь на установку — «тарелки» возмущенно дребезжали, а я с наслаждением
слушал из кухни ее чертыхания. Принесенную мной чашку зеленого (я выбрал самый
противный сорт) чая она даже не заметила…
Когда Шенн открыл дверь, она уже дошла до нужной «кондиции» и с порога
набросилась на него с какими-то дурацкими упреками. Он тут же покосился на
меня, прекрасно понимая, что без его младшего брата тут не обошлось, но я
забился в угол за необъятный холодильник, прихватив с собой чай, и скрестил
пальцы на удачу. Сначала Стейси заявила, что ждала его два часа (я не стал ее
поправлять), потом возмутилась тем, что он отправился на фотосессию с целой
армией красоток, ничего не сказав ей (и она не желает слушать его вранье о том,
что он якобы снимал группу оборванных металлистов), она даже припомнила ему мой
свитер (я затаил дыхание), сказав, что подарила его Ему, а не какому-то
«незнакомому мальчишке в трусах». Но мой брат оказался твердым орешком: смутить
его явно было непросто. Не знаю, каким таким волшебным способом, но ему удалось
успокоить ее… Я разочарованно выругался шепотом, когда Шенн чмокнул Стейси в
щеку:
— Я сейчас переоденусь, и мы пойдем обедать, ОК?
— Ну… ладно! — Она была недовольна, но явно не собиралась швырять в него
посуду. Fuck. Fuck. Fuck! Шенн прошел мимо меня в ванну, глянув на меня краем
глаза, снял свитер и крикнул оттуда:
— Джей, притащи мне серую рубашку из шкафа!
— Сам за ней сходи! — громко и недовольно буркнул я.
— Я ее тебе принесу, зайчик! — Стейси кинулась к НАШЕМУ шкафу. ЗАЙЧИК?! WTF?
Шенн показался из ванны и с укоризной посмотрел на меня, проговорив одними
губами: «Bad boy!» — и ему навстречу уже неслась эта… рыжая… с рубашкой
наперевес. Шенн протянул руку за рубашкой… Черт, до сих пор помню в деталях эту
чудесную сцену, развернувшуюся перед моими глазами! Как только цепкий взгляд
Стейси наткнулся на еще довольно свежий укус, алевший на руке моего брата, она
издала что-то среднее между воплем и стоном, и схватила его за запястье:
— Что ЭТО??? Кто?.. Какая… С кем… — у бедняжки явно не хватало слов, а я…
ликовал. Шенн попытался примирительно обнять ее за плечи:
— Это не то, что ты думаешь, Стейси!
— Да?! А что мне думать?! — она начала срываться на визг… и, в общем, я ее
хорошо понимал.
— Это… это Джаред! — Шенн, наконец, нашелся и даже ткнул в меня пальцем; Стейси
метнула на меня совершенно дикий взгляд. Я сделал глаза невинного агнца, на
которого возводят жуткую напраслину.
— Джаред?! А это… ЭТО тоже Джаред? — она стукнула его по груди, где красовался
сочнейший засос, а рядом с ним — синяк неизвестного происхождения. Шенн только
открыл и закрыл рот. А мне так и хотелось закричать: «Да, и ЭТО тоже Джаред!» Я
же говорил: в том, чтобы быть братьями, есть свои преимущества…
В общем, спустя несколько минут Стейси уже неслась на своих каблуках по
лестнице со скоростью засекреченной ракеты, а я тщетно пытался сдержать улыбку.
Шеннон, пытавшийся задержать ее, наконец, захлопнул входную дверь и вошел в
кухню, где я прикрывался чашкой остывшего чая.
— Доволен?
В его голосе не было злости, поэтому я осмелел:
— Ну… в общем, если честно, то — да!
— Поросенок… — Шенн уселся на стул напротив, швырнув злополучную рубашку на
стол. Он выглядел немного усталым, а засос на груди, и правда, смотрелся…
роскошно!
— Устал?
— Да, немного. Даже рад, что не пришлось тащиться в этот проклятый ресторан.
— Видишь, как хорошо все получилось, — я засмеялся.
— Не смешно! — вопреки своим словам, Шенн улыбался. — У нас в холодильнике
пусто, а идти куда-то я не хочу… И тебя одного не отпущу.
— Шенн, в морозилке замороженные овощи — сейчас я их поджарю и все!
Мой брат скривился:
— Овощи? Боже, как это меня черт дернул это сено купить? Наверное, это Стейси…
— «Наверное, это Стейси…» — передразнил я его, не удержавшись.
— Эй, это, между прочим, ты виноват, что мы поссорились! И вообще, прекрати
таскать мои вещи из шкафа — каждый день новые! Ты что, решил все «пометить»?
— Именно! — я подошел к брату и плюхнулся на его колени, а потом быстро, чтобы
он не успел меня выдворить, обхватил его ногами за талию, обнял. Он не
сопротивлялся: либо у него не было на это сил, либо ему и самому это было
приятно. Надеюсь, что второе… Я еще теснее прижался к нему и сказал — губы в
губы:
— Я буду носить твои вещи. Всегда. Чтобы на каждой твой куртке, на каждой майке
оставался мой запах…
На мое заявление Шенн только фыркнул и властно поцеловал меня в губы —
наверное, чтобы я не забывал, кто здесь хозяин.
— Ну, и чем ты собираешься заниматься в этом городе, поросенок?
Я пожал плечами, теребя его волосы, а потом мой взгляд упал на барабанную
установку брата, и я улыбнулся Шенну:
— Может, музыкой займусь — с тобой, конечно!
— Ага. — Шенн саркастично ухмыльнулся.
— А что такое? Забыл, сколько мы с тобой вместе играли? Ты, кстати, сам
говорил, что у меня голос неплохой… и на гитаре я играю…
— Голос у тебя хороший, только чтобы музыкой заниматься, нужно пахать, как
лошадь, отдавать всего себя — а не менять, как ты, свои интересы каждый год!
— Ты что, не веришь, что я смогу? — я уже серьезно смотрел в чайные глаза
Шенна. Он внимательно разглядывал меня.
— Не знаю, Джей, не знаю.
— Я тебе докажу, big bro, вот увидишь…
Все это прозвучало очень странно, и меня не покидало ощущение, что я даю
какую-то клятву — клятву, скрепленную долгим-предолгим поцелуем, который плавно
перетек в нечто намного большее — и несчастные овощи были забыты…
***
Естественно, я не рассказываю все это Мэтту — просто воспоминания проносятся в
моей голове за несколько секунд, а ему я выдаю «адаптированную и сжатую
версию»:
— Мы пытались забыть друг друга, но… я первый сдался — и Шенн позволил мне
приехать к нему. Я не закончил ни университет, ни школу в Нью-Йорке. А когда
приехал к нему, Шенн до самого этого fucking сериала со мной нянчился. Да и
потом… Иногда мне кажется, что, может, и правда, ему было бы лучше без меня —
он бы по любому стал великолепным барабанщиком… играл бы сейчас в какой-нибудь
супергруппе, а не возился со мной. Со мной больше проблем, чем почета.
Мэтт тихо смеется и шутливо кладет ладонь на мой лоб:
— Джей, ты перегрелся в лучах своей славы!.. — Теперь мы смеемся вместе. — Вы с
Шенном необходимы друг другу, и оба это прекрасно понимаете. Он для тебя, как
«якорь», то, что тебя связывает с реальным миром — без него ты бы давно уже
улетел на свой Марс! А Шенн без тебя попросту умер бы со скуки… Кроме того, ты
и сам знаешь, ЧТО вас связывает.
Да, Мэтти, знаю. Именно то, что оправдывает все на этом свете…
Дверь распахивается внезапно — я почти испуганно вскидываю голову; за Шенном по
пятам следует Томо, и я догадываюсь, что он не выпускал из вида моего брата все
это время. Бедняга Томо явно смертельно устал после концерта (еще бы — так
носиться на другую сторону сцены к Мэтту с гитарой наперевес!), он был сегодня
великолепен; потом еще автографы, фотографии и… разъяренный Шенн.
Шенн бросает на меня краткий, но красноречивый взгляд, а Томо с разбегу и с явным
облегчением падает на диван рядом с Мэттом. Я молчу, и мой брат молчит. В этой
тягучей тишине голос Мэтта звучит почти жизнерадостно:
— Ну что, Томо, ощутил сегодня все прелести звездного статуса? — и он тут же
начинает заразительно ржать над хорватом. Я вспоминаю, как во время общения с
фанатами какая-то сумасшедшая истеричка чуть ли не запрыгнула на Томо, визжа от
счастья, и стала целовать его куда попало. Это было действительно забавно —
Томо не ожидал этого, и совсем растерялся: пытался ее отодрать от себя,
отстранялся и все повторял: «Relax, baby, relax!».
Томо закатывает глаза и тоже смеется:
— О, это было нечто!.. Прости, Джей, за то, что я издевался над тобой раньше,
когда твои фанатки на тебя бросались! Она чуть меня не завалила…
Парни продолжают припоминать, что отмачивали фанаты на недавних концертах, а я
смотрю на Шенна — но он даже не улыбнулся. Черт. Он присаживается на
подлокотник кресла и, разжав кулак, кладет что-то на стол… Маленькая бутылочка
с чем-то прозрачным… Антисептик! Fuck, я же забыл: наш запас в автобусе мы
вылили еще на позапрошлом концерте — в основном на меня, естественно, и чуточку
— на окровавленные костяшки моего брата. Он что, за ним ходил? Я вздыхаю и
чувствую себя распоследней сволочью; Шенн может забыть о том, что мы любовники,
но никогда не забывает, что он — мой брат. Старший. Он смотрит на меня
исподлобья и говорит глухим голосом так тихо, что я просто читаю это по его
губам:
— Иди ко мне.
Я вскакиваю, как ужаленный, и послушно подхожу к нему. Мэтт, что-то говорящий в
это мгновение, запинается на секунду, но потом продолжает — я чувствую, что
парни наблюдают за нами, хотя беседа и не прерывается. Это нисколько не
раздражает меня, потому что я знаю: они просто переживают за нас, всегда, что
бы с нами ни происходило. Такая дружба многого стоит, уж поверьте мне…
Шенн поливает вонючим антисептиком круглую, как пончик, ватную подушечку, а
потом немного поднимает голову и упирается взглядом в мою шею, которая
оказывается как раз на уровне его глаз (не хочет смотреть мне в лицо?):
— Подними майку.
Я ненавижу, когда он говорит вот так, приказами, но сейчас просто повинуюсь и
задираю майку, с ужасом понимая, что царапины немного припухли из-за душа и
выглядят просто ужасно. Шенн несколько мгновений, сжав зубы, разглядывает их, а
потом цепляет двумя пальцами ремень моих джинсов и заставляет меня сделать еще
один шаг к нему. Желание просто обнять его и покончить с этой дурацкой ссорой
становится непреодолимым, но меня останавливают его напряженные плечи — сейчас
он как порох, к которому лучше не подносить огонь…
Шенн прикасается ледяной и мокрой ватой к царапине, и я непроизвольно
отшатываюсь от него, шипя от резкой боли. Сбоку от нас возникает сочувствующее
лицо Мэтта, который направляется в душ, — он хлопает меня по плечу и закатывает
глаза, глядя на Шенна… Блядь, как же режет!.. Но мой брат и не собирается меня
жалеть: он кладет свободную ладонь на мою поясницу, снова придвигает к себе и
уже не отпускает — чтобы я не дергался. Он медленно и с явным наслаждением
промакивает этой дрянью каждый миллиметр моих царапин, не один раз, как будто
специально делает мне больно — и он не дождется моих протестов, потому что я
знаю: с каждым движением, с каждым разом, когда я кусаю свои губы, из Шенна по
капле вытекает злость на меня. Это того стоит. В конце концов я опираюсь одной
рукой о его плечо, и он, застыв на мгновение, решает от меня не отбиваться. Под
занавес процедуры мимо нас протискивается и Томо. Он подмигивает мне и хлопает
по плечу Шенна, проделывая примерно то, что и Мэтт, только поменяв местами
«объекты». Меня, несмотря на боль, начинает разбирать смех, и я сдавленно
хрюкаю в сторону… Шенн на «десерт» устраивает последний «круг» по моим ранам,
которые пульсируют от острого жжения, и деловито закручивает крышку на флакончике
— я почти с сожалением убираю руку с его плеча. Вот это, собственно говоря, и
был сеанс садомазохистского «секса»…
— Спасибо. — Ответа я, в общем-то, и не ждал.
Когда он отправляется в душ, я с тоской смотрю ему вслед. Ну, и что дальше?..
Я иду спать намного позже всех — после огромной чашки обжигающего горячего
шоколада, десятка дурацких звонков по телефону и сотни шагов по кругу на
крошечном пятачке между диваном и столом в передней части нашего автобуса. Я
просто тяну время — и сам не знаю, для чего… Обычно во время вот таких моих
ночных бдений парни рано или поздно начинают бросаться подушками, отбирают мой
телефон или дружно вопят, что если я не выключу свет и не лягу сейчас же спать,
они устроят мне «темную», но сегодня меня никто не трогает. Еще бы. Наконец, я
щелкаю выключателем и, оставив зажженной только малюсенькую лампочку-подсветку
на потолке между «отсеками» автобуса, пробираюсь к своей кровати. Томо и Мэтт
спят — Мэтт сладко посапывает, напоминая белого медведя, а Томо беспокойно
шевелиться, видя какие-то сны. Шенн не спит — и даже не притворяется. Все равно
ведь бесполезно. Просто лежит на спине, положив руки под голову и безжизненно
глядя прямо перед собой сквозь полуопущенные ресницы.
Я колеблюсь всего секунду; тьма обнимает меня, как теплое одеяло, и
подталкивает к брату, срывает с моего лица маску равнодушия. Я быстро сбрасываю
с себя джинсы и майку, подхожу к кровати Шенна и становлюсь рядом с ней на
колени. Он все еще не смотрит на меня, но я уже знаю, что он не оттолкнет меня.
Я протягиваю руку и нежно провожу пальцами по его небритой щеке; его ресницы
дрожат — и наши взгляды встречаются. Мы не произносим ни звука. «Прости меня».
«И ты меня». Шенн кивает на мою кровать, я вскакиваю и быстренько хватаю с нее
плед и подушку; потом закидываю все это на постель брата, к стенке, и сам
перелажу через Шенна туда же — я никогда не сплю с краю, потому что с этих дико
узких кроватей я запросто во сне могу «убежать» — мне вечно снится, что концерт
еще продолжается… Я вообще редко забираюсь в его кровать в концертном автобусе
— не хочу смущать парней; да, да, они, конечно, знают про НАС, но одно дело —
ЗНАТЬ, а совсем другое — ВИДЕТЬ. Поэтому обычно мы обходимся легкими поцелуями,
невиннейшими объятиями и изредка — общей кроватью с разными одеялами.
Перебираясь через Шенна, я прижимаюсь к нему как можно теснее, и в конце концов
замечаю на его губах улыбку. Я обнимаю его, долго шуршу одеялами, чтобы получше
накрыться и при этом прижаться к брату, и, наконец, устраиваюсь — почти на нем.
Шепчу ему — и мой голос становится непривычно неуверенным:
— Ты и правда жалеешь, что я переехал к тебе… тогда?..
Он успокаивающе проводит шершавой ладонью по моей шее и спине и подтверждает
словами то, что уже сказали его руки:
— Ты же знаешь, что нет.
В этот момент Томо почти подскакивает на своей кровати и, не просыпаясь,
отмахивается от кого-то, невидимого: «Fuck off, crazy…» Мы с Шенном,
настороженно поднявшие головы, снова вспоминаем эпизод с бешеной фанаткой, и
покатываемся со смеху — я утыкаюсь лицом в шею брата, чтобы не ржать слишком
громко. «Oh, God…» — страдальчески бормочет Томо, и на нас накатывает второй
приступ смеха. Успокаиваемся мы не скоро — и я чувствую себя страшно уставшим.
Я дотрагиваюсь до руки Шенна, с сожалением провожу по «вечным» ссадинам на
костяшках его пальцев и прикасаюсь губами к коже чуть повыше запястья — ровно
там, где когда-то алел мой «счастливый» укус…
«Помнишь?». «Конечно, малыш…». Мы снова не произносим не звука…